В
древние времена жил в Муроме князь со своей княгиней. Но вот стал
прилетать к княгине змей-оборотень. И
тогда советует князь своей супруге узнать у змея, от чего ему может приключиться
смерть. Выведала у оборотня княгиня, что
умереть тому суждено «от Петрова плеча, от Агрикова
меча».
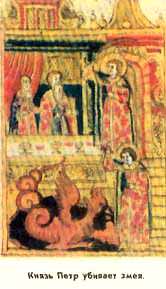 Младший брат князя Петр находит этот меч и
убивает змея. Но попала кровь змея на лицо и руки его, и весь он покрылся язвами
и струпьями. Прослышав, что рязанская земля славится лекарями, велит везти
себя туда. В селе Ласкове заходит слуга князя в один из домов и видит: сидит в
горнице девица за ткацким станком, а перед ней прыгает заяц. Узнав, зачем
пришел слуга, девица обещает вылечить князя, если тот возьмет ее в жены. Петр
вынужден был дать согласие. Феврония приготовляет снадобье и велит вымыть князя
в бане и смазать ему все язвы, кроме одной. Князь исцеляется от болезни, но не
выполняет своего обещания. И тогда снова покрывается язвами. Феврония опять
лечит его, и Петр женится на ней. Однако бояре и их жены не могут примириться с
тем, что дочь бедного «древолазца» стала княгиней. Они чинят ей всяческие козни
и, наконец, изгоняют Февронию вместе с мужем из муромских пределов. Но затем
между боярами возникают распри, и они вынуждены просить Петра и Февронию
вернуться домой, где те и доживают в полном согласии до старости. А когда князь
почувствовал приближение смерти, он посылает за Февронией. Та приходит, и они
вместе умирают. Младший брат князя Петр находит этот меч и
убивает змея. Но попала кровь змея на лицо и руки его, и весь он покрылся язвами
и струпьями. Прослышав, что рязанская земля славится лекарями, велит везти
себя туда. В селе Ласкове заходит слуга князя в один из домов и видит: сидит в
горнице девица за ткацким станком, а перед ней прыгает заяц. Узнав, зачем
пришел слуга, девица обещает вылечить князя, если тот возьмет ее в жены. Петр
вынужден был дать согласие. Феврония приготовляет снадобье и велит вымыть князя
в бане и смазать ему все язвы, кроме одной. Князь исцеляется от болезни, но не
выполняет своего обещания. И тогда снова покрывается язвами. Феврония опять
лечит его, и Петр женится на ней. Однако бояре и их жены не могут примириться с
тем, что дочь бедного «древолазца» стала княгиней. Они чинят ей всяческие козни
и, наконец, изгоняют Февронию вместе с мужем из муромских пределов. Но затем
между боярами возникают распри, и они вынуждены просить Петра и Февронию
вернуться домой, где те и доживают в полном согласии до старости. А когда князь
почувствовал приближение смерти, он посылает за Февронией. Та приходит, и они
вместе умирают.
Таков, вкратце, сюжет «Повести о Петре и
Февронии» — одного из древнейших народных преданий. Прочитав ее, легко убедиться
в том, что «Повесть...» сложена в пору, когда христианство еще не пустило
глубоких корней на Руси и Феврония до встречи с князем Петром была язычницей.
Посланец Петра, войдя в дом к Февронии, не увидел икон и, следовательно, не мог
обменяться с нею христианскими приветствиями, но «вниде в храмину и зря видение
чюдно: сидяше бо едина девица, ткаше красна, пред нею же скача заец». Устные
легенды уточняют, что молилась Феврония не в церкви и не в избе перед божницей,
а под ореховым кустом (как тут не вспомнить языческие действа в священных
рощах!) — этот куст и две ямки в земле от колен Февронии жители деревни
Ласково показывали еще в 20-х годах нашего столетия. И врачевание князя Петра
было проведено ею в чисто языческой традиции: «она же взем съсудець мал,
почерпе кисляжди своея и дуну и рек: «Да учредять князю вашему баню и да
помазует сим по телу своему... и будет здрав». Ни богородничной молитвы, ни
«господи, благослови», ни даже осенения крестом. Это было настоящее волхование,
чародеяние, знахарство. Однако в 1547 году Феврония стала христианской святой,
то есть, безусловно, христианкой.
Но самое любопытное в «Повести...» —
женитьба. Обряд выглядел весьма внушительно: молодой князь в сопровождении
бояр приехал к дому невесты издалека, привез богатые дары. Накануне предстоящей
свадьбы для жениха была устроена баня...
(Миниатюры из рукописной книги XVII века «Сказание о Петре и
Февронии».)
Русский свадебный обряд и совершающиеся при
этом ритуалы, тексты обрядовых песен и причитаний, их музыкальный язык,
характер исполнения изучаются давно. Однако свадебный обряд интересен и с
исторической точки зрения. Например, как установил советский историк А. И.
Козаченко, одна из колоритнейших фигур русской свадьбы — тысяцкий — вошла в
обряд во второй половине XIII века. Реальный тысяцкий — значительное лицо
древнего Новгорода, где в то время он представлял интересы ремесленного люда, а
его административным центром была церковь. Можно представить, как этот народный
тысяцкий, «хозяин» ремесленного посада, предводительствовал в свадебных
процессиях, и каждая церемония принимала характер демонстрации новгородских
свобод — «правды новгородской». Разумеется, настоящий тысяцкий не мог успеть
на все свадьбы, да к тому же с начала XIV века эта должность была ликвидирована
боярами. Поэтому его присутствие поневоле стало превращаться в игровое, а
закрепляясь традицией,— в обрядовое действо. Так появился новый свадебный чин,
который подобно многим другим новгородским изобретениям периода
монголо-татарского нашествия вскоре распространился по всей Руси. Можно представить, как этот народный
тысяцкий, «хозяин» ремесленного посада, предводительствовал в свадебных
процессиях, и каждая церемония принимала характер демонстрации новгородских
свобод — «правды новгородской». Разумеется, настоящий тысяцкий не мог успеть
на все свадьбы, да к тому же с начала XIV века эта должность была ликвидирована
боярами. Поэтому его присутствие поневоле стало превращаться в игровое, а
закрепляясь традицией,— в обрядовое действо. Так появился новый свадебный чин,
который подобно многим другим новгородским изобретениям периода
монголо-татарского нашествия вскоре распространился по всей Руси. Однако в русском свадебном обряде был чин, по
феодальным меркам, неизмеримо более высокий, чем тысяцкий. Это князь, которым
здесь именовался виновник торжества — жених. Но когда и при каких
обстоятельствах появилось в обряде это лицо? Почему молодого крестьянского парня
в роли жениха обряд называет князем, а сопровождающих его приятелей — боярами?
Почему «князь», если даже он живет в той же деревне, где и невеста, к ее дому
должен не пешком идти, а приехать конным поездом, привезти подарки? Причем
невесту, которую княжной при этом отнюдь не называют, затем должен увезти: без
езды свадьба не свадьба. И вот здесь-то невольно привлекает внимание
«Повесть о Петре и Февронии», где центральным событием описывается необычный, с
резким нарушением сословных барьеров, брак: удельный князь женится на
крестьянской девушке. И хотя церковное предание указывает на время жизни
героев «Повести...» и отождествляет князя Петра с реальным муромским князем
Давидом Юрьевичем, личность его в значительной мере легендарна. А значит, можно
предположить, все, что происходит с ним, надо относить не к началу XIII века, а ко времени создания «Повести...» —
то есть к первой половине XVI века. Повесть целиком отражала взгляды
людей именно той эпохи, и они касаются как проблем семьи и брака, так и
отношения русского народа к христианству, поскольку в 1547 году Петр и Феврония
были причислены к лику святых.
Что хотел сказать автор этой легенды своим
читателям и слушателям? Судя по тому, что «Повесть...» сразу же стала одним из
популярнейших литературных произведений, она несла в себе какую-то мощную и
актуальную идею. Ведь некоторое сходство с «семейной хроникой» Петра Муромского
проступает в рассказе о женитьбе более достоверного и более значительного
князя — крестителя Руси Владимира. Как повествуется в так называемой Корсунской
легенде, его невеста жила где-то далеко и, чтобы добыть ее, князь совершил
дальний поход. Здесь важно отметить, что и сама женитьба князя Владимира,
пристрастно обрисованная летописцем, и некоторые ее обстоятельства не были
случайной или второстепенной вставкой в летопись. Смысл повышенного внимания к
этой частной истории, видимо, в том, что принимавшая христианство Русь должна
была принять и христианский обряд бракосочетания, который показан на личном
примере князя Владимира. То есть эта свадьба стала прологом к принятию
христианства самим Владимиром, а затем к крещению киевлян и жителей других
городов. Можно предположить, что детали этого брачного действа нашли отражение и
в свадебном обряде господствующего класса тогдашней Руси — сватовство здесь
уподобляется торговле («у вас товар, у нас купец»): Владимир отдает за невесту
осажденный его войском, и затем завоеванный город.
Итак, свадьба князя Владимира органично
вписывается в программу «крещения Руси». Однако женитьба князя Петра, которая
в чем-то повторяет ее, будучи описанной, спустя пять с лишним столетий,
вызывает, по меньшей мере, недоумение: кому предназначался показ княжеской
свадьбы в начале XVI века, если Русь давно крещена и церковный
брак столь же давно стал заурядным явлением?
О том, что крещение князя Владимира
фактически не отразилось даже на феодальных верхах тогдашней Руси, наиболее
убедительные свидетельства дала археология. По всему пути монголо-татарского
нашествия в 1237—1241 годах в старых русских городах найдено множество кладов,
содержащих золотые и серебряные уборы княгинь и боярынь — диадемы, колты,
браслеты. По характеру символики все изделия распадаются на две категории: более
древние несут изображения птиц — сиринов, грифонов, симарглов, идеограммы воды,
солнца, растительности — полная языческая номенклатура. Но с начала
XIII века символический язык украшений резко
меняется: на вещах этого времени появляются деисусный чин, Иисус Христос,
различные святые. Получается, что в течение двух веков после «крещения» русские
феодалы жили в мире языческих образов и представлений. А процесс,
происходивший на рубеже XII—XIII веков, при всей его глубинности и
стихийности, очевидно, связан с переломом в мировоззрении: в выборе личных
вещей люди вряд ли лгали сами себе. Следовательно, временем фактического
принятия христианства господствующим классом Руси, возможно, был конец
XII — начало XIII века.
Эту, странную на первый взгляд, ситуацию,
можно, наверное, объяснить тем, что принимаемое христианство было нужно
древнерусскому государству для решения задач, главным образом, международного
характера. На уровне же отдельного человека потребность в новой религии в конце
X века еще не созрела. Поэтому обращение в
христианство повсеместно происходило насильно — миссионеры убеждали простой
люд больше оружием, нежели проповедями. «Володимер посла по всему граду,
глаголя: аще кто не обращается на реце... противен мне да будет»,— записал
киевский летописец. Встреча новгородцев с миссионерами вылилась в «сечу злу»,
после которой покоренных горожан принудительно окрестили: «не хотясчих
креститися воини влачаху и кресчаху, мужи выше моста, а жены ниже
моста».
Но и в дальнейшем Киевская Русь, официально
считавшаяся христианской, обнаружила довольно прохладное отношение к исполнению
христианских обязанностей. Русские книжники составили не один десяток «Слов» и «Поучений», в
которых обличали нежелание горожан посещать церкви — особенно в дни больших
языческих празднеств — венчать браки, крестить детей. Правда, прихожан
удавалось собрать в церковь, но здесь они развлекались тем, что, не стесняясь
святости места, рисовали на оштукатуренных стенах карикатуры, писали все что
угодно, вплоть до ругательств, а то и вырубали понравившиеся куски церковных
фресок.
В домашний быт горожан этого времени
элементы христианства еще не проникли. Летописец осудил это явление краткой, но
выразительной фразой: «...словом нарицающеся хрестьяни, а поганьскы живуще».
Такое же положение отражено и в художественном документе конца XII века — «Слове о полку Игореве». Из описаний
повседневной жизни князей и дружины (за вычетом двух фраз в конце произведения)
о роли и месте христианства невозможно почерпнуть ровно никаких сведений, как
будто его и нет вовсе. Не знают князья своего покровителя Георгия, не призывает
Ярославна ни деву Марию, ни Параскеву-Пятницу, не является Святославу киевскому
во сне ни София — Премудрость Божия, ни один из светильников христианского
пантеона. Вряд ли все это можно объяснить художественным замыслом автора.
Летописные известия всего киевского периода ясно говорят о том, что христианские
ценности были для большинства князей чистой формальностью: крестоцелования,
которыми укреплялись клятвы, нарушались, во всяком случае, с отменной
легкостью. В пылу междоусобной борьбы князь-победитель расправлялся не только с
дружиной побежденного, но и разорял церкви, рассматривая их не более, как
хранилища ценного имущества. Так, например, в 1177 году князь Глеб Рязанский,
воюя около Владимира, «много бо зла створи церкви Боголюбьской... ту церковь
повеле выбивше двери разграбити с погаными... и многы церкви запалы
огнем». Батыево нашествие непосредственно и грозно
коснулось Древней Руси зимой 1237/38 года, когда были сожжены Рязань, Коломна,
Москва, Владимир, Суздаль, Ростов, Ярославль, Кострома, Дмитров, Торжок. Гибли
памятники искусства и архитектуры, разорялись ремесленные центры, угонялись в
полон мастера... Однако разорение материальное в виде выплаты дани Орде все же
не помешало князьям накапливать значительные средства и готовиться к свержению
ига. И здесь потребность в сплочении перед грозным врагом становилась мощным
христианизирующим фактором: объединению людей помогала проповедь всеобщего
братства во Христе. На Руси с началом Батыева нашествия она охватила низы
городского посада. На листах летописей одно за другим появляются известия,
свидетельствующие о том, что христианские символы стали реальной ценностью для
городского люда. Так, под 1255 год, в связи с приходом Батыевых «численников»
«целоваша святую Богородицю меншии, како стати всем — либо живот, либо смерть
за правды новгородьскую, за свою отчину»; под 1259 год — «умрем честно за святую
Софью»; под 1293 год ремесленники Твери принуждают бояр целовать крест в том,
что они не изменят перед лицом монголо-татарских войск Дюденя... Движение
посада к церкви давало низам города новые нравственные силы, возможность
ощутить весь город (включая «град» или «кром») как «свой», как единое
целое.
Таким образом, началом фактического принятия
христианства городским посадом, повидимому, является вторая половина
XIII века. Такое предположение подтверждается и
данными из других областей культуры, созданных населением посада, которое
осваивало христианство творчески. И церковь вынуждена была принять выдвижение
живых носителей христианской идеи, такой, как она понималась городскими
низами,— прорицателей, обличителей, мучеников (прямых продолжателей традиции
языческих волхвов),— они именовались юродивыми, блаженными и позже были
причислены к лику святых. Русской церковью канонизировано 17 юродивых, самым
ранним из них считается Прокопий Устюжский, умерший приблизительно в 1330 году.
Но кроме официально признанных, конечно, были (особенно в раннюю пору)
стихийные проповедники, не удостоившиеся такой чести. В этом убеждает и то, что
само выдвижение посадских юродивых было своеобразным протестом против вялости
господствующей церкви, против бездейственности того христианства, носителями
которого были столь часто порицаемые посадом бояре. «Умрем честно за святую
Софью» — это был клич не священника этого храма и не боярина, это голос одного
из предшественников городских подвижников. Посадский люд стал по-новому смотреть и на
некоторых христианских святых греческого происхождения, которые затем
приобретают неожиданные, неизвестные ранее функции. Так, библейский пророк Илья
стал громовержцем, владетелем или источником грома и молнии; местные фракийские
святые Флор и Лавр, бывшие у себя на родине каменосечцами, то есть строителями,
в Новгороде оказываются уже «коневодцами». О времени и причинах возникновения
«коневодческого» культа говорит то, что на всех ранних иконах святые
изображались в воинских доспехах, а лошади, если они показывались отдельно,
оседланы по-военному. Выходит, этот культ не земледельческий, а городской, и
авторство его, очевидно, принадлежит посаду, который с началом
монголо-татарского нашествия поднялся на защиту своих городов. Все явление в
целом датируется второй половиной XIII века на основании иконописи: именно тогда
активно преодолевались грекофильские традиции, и создавалась основа
национального искусства. Особенно это относится к новгородской живописи,
своеобразный стиль которой позже был назван «новгородскими
письмами».
По-новому стали строить посадские мастера и
христианские храмы — небольшие по размеру каменные церкви, отличающиеся и
внешним видом, и интерьером. Такова, например, церковь Николы на Липне,
построенная в 1292 году. Внешний облик этих церквей отражал вкусы купеческого и
ремесленного населения, в нем заметно большое влияние деревянного зодчества.
Творческий подход к сооружению христианской святыни говорит о том, что
посадские мастера строили каждый храм для отправления своих религиозных
потребностей.
Да и жанр былины — в том виде, в каком он
дожил до XIX века,— сложился в годы монголо-татарского
нашествия. Еще Н. А. Добролюбовым было высказано такое предположение. На первый
взгляд это странно, ведь центральным былинным персонажем является Владимир
Красное Солнышко. Да и почему эти сказания, отражающие дружинный быт и
восходящие к застольным «славам», исполнявшимся на княжеских пирах, вдруг запел
народ? Но ведь шел процесс христианизации посада, и вполне реально, что простой
люд, освоив жанр и основной набор сюжетов, стал слагать собственные «старины»,
отражая в них свое понимание происходящего. Например, воспетая в былине
женитьба князя Владимира лишь отдаленно напоминает летописную историю. Как и в
Корсунской легенде, здесь говорится о том, что невеста живет довольно далеко и
для ее добычи нужна битва, в данном случае — избиение свиты будущего тестя.
Невестой является дочь «короля» Золотой Орды, но христианские реалии — такие,
как соборная церковь, попы, дьяконы, венчание,— занимают здесь уже достаточно
высокое место.
Однако в брачных ритуалах еще много
языческого. Так, для богатыря Дуная Ивановича, женившегося одновременно с князем
Владимиром, обручение с невестой состояло в обходе «круг ракитова куста». Затем
последовало венчание в церкви, после чего — пир, совместный с Владимировым,
который и представлен главным актом в узаконении брака. Итак, разрыв между действительным принятием
христианства господствующим классом и низами городского посада был
сравнительно небольшим — примерно полстолетия. Можно ли видеть в этом
проявление некой закономерности и допустить, что еще через полстолетия стали
христианами и крестьяне? Такая картина получилась бы очень стройной, но она не
соответствовала бы истине.
О христианизации русских земледельцев
каких-либо известий в летописных источниках не обнаружено. Скорее всего, они
вообще отсутствуют. На взгляд церкви и церковных писателей, все русские с
момента «крещения» Руси — христиане (в до монгольской Руси так называли всех
русских). В годы монголо-татарского нашествия этот термин в наибольшей степени
обозначал «податное население» (в том числе и земледельцев), затем он все
более перемещался на земледельческое сословие, и к концу XV века всех русских земледельцев стали
именовать — «христиане». Однако какие-либо симпатии земледельцев к церкви при
этом не зафиксированы. Да и что мог отметить монастырский книжник, если бы
крестьяне действительно проявили повышенный интерес к христианству? То, что они
стали христианами? Так формально они были ими и раньше. Нет, крестьян приобщали
к новой вере постепенно. В конце XV века к административной деятельности стали
привлекать «лучших людей» из черносошного крестьянства, каждый из которых
должен был проходить процедуру «крестоцелования». Значит, в русской деревне в
это время — в прямой связи с имущественным расслоением — могли появляться
христиане. Но то были, безусловно, единичные случаи.
Мы в действительности не знаем, как смотрели
на проблему христианизации крестьян русские люди XIV—XVI веков. Изложенный выше взгляд — всего лишь
гипотеза, широко принятая сегодня, потому что наиболее понятная нам. Однако
весьма вероятно, что человек далекого прошлого, мысливший иными категориями, к
вопросу вероисповедания земледельцев подходил иначе. Бытие русского
средневековья четко делилось на два полюса: жизнь государственная,
сосредоточенная в городах («государьство», «дело государево»), к ней примыкала
и церковь; и жизнь народная — «земля», «дело земское». Это были области,
которые вплоть до земской реформы Ивана IV не смешивались и не имели никаких точек
соприкосновения, кроме экономической (ежегодная выплата оброка). То есть до
середины XVI века государство не вмешивалось во
внутренний мир крестьян, что, кстати сказать, было условием формирования
народной культуры. Не случайно народная сфера именовалась «землей»: пашня и
человек на пашне представлялись единым целым. Как живет этот человек, во что
верит — не имеет значения, достаточно того, что пашня плодоносит и поставляет
свои плоды в город. Исходя из этого взгляда, город просто не видел и не знал
религиозной жизни деревни и писать о ней просто не мог. Когда
же русские крестьяне
стали считать себя
христианами? Попробуем подойти к
этой проблеме «от противного» — рассмотрим эпохи, в течение которых земледельцы
достоверно не были ими. Так, в XIV веке повсеместное распространение имели
курганные захоронения с вещами — чисто языческий обряд. В курганах
подмосковного села Матвеевское (сейчас в черте Москвы) среди сопровождающих вещей
обнаружены христианские кресты и иконки, но положение их (не у шеи, а на
головном уборе говорит о том, что они служили не предметом культа, а украшением
— также языческий прием. Захоронения под
курганами практикуются еще в XV, а в «глухих местах» — ив начале
XVI века. Понятие «глухости» здесь относительно.
Новгородский архиепископ Макарий
в 1534 году писал в Водьскую пятину (непосредственно граничащую
с Новгородом), порицая
«христиан» за то, что они «мертвых своих кладут в селах и по курганам и коломищам... а к церквам на погосты не возят хоронить». В дальнейшем
известия такого рода уже не встречаются, следовательно, переход от языческих к
христианским обрядам произошел на границе XV—XVI веков.
Однако с помощью календаря можно,
оказывается, установить это и более точно. Русский народ принимал юлианский
календарь, то есть переходил на календарь церкви с предшествующего языческого
и переводил на него весь объем своих агротехнических примет и предсказаний —
начиная с XVI века, так как днями солнцестояний в
месяцеслове считаются 12 июня и 12 декабря — действительно бывшие в этом
столетии. Календарь 1 — стержень
всей крестьянской жизни, суть
которой: когда пахать, когда сеять, когда «пробуждать» плодовые деревья, когда
наблюдать за росой, за туманом, за инеем — и делать по ним широкие
предсказания. В то время календарь является хранителем особого жизненного ритма,
выраженного в чередовании праздников и обрядовых действ, в их неразрывном единстве с
хозяйственной деятельностью.
Семидневная неделя, знакомство с которой на
Руси отмечено до принятия христианства,
стала штатным календарным явлением с конца X века, при этом названия дней недели
применялись славянские (болгарские). С этого времени и по сей день церковь
называет неделю (семидневку) «седмицей», а
седьмой ее день — «неделей» от выражения «нет дел». И внедрялся он
постепенно в городской обиход церковью. Есть основания полагать, что в народной
культуре семидневный ритм с последним нерабочим днем был неизвестен. Почему
вдруг каждый седьмой день стало нельзя работать? Знаменитый исследователь
славянских древностей Л. Нидерле отметил это удивление у поморянских славян, в
России оно вылилось в создание нового термина для обозначения седьмого дня
седмицы — «воскресение», что произошло в XVI веке. Для христианских понятий оно
неявляется новым: так именуется день пасхи —
«светлое христово воскресение», который ежегодно приходится на «неделю». Из 52
«недель» христианского календаря одна называется «воскресением», считается
крупнейшим годовым праздником, требующим серьезной подготовки (семь седмиц
«великого поста»). И вдруг «воскресениями» (пасхами) начинают называть каждый
нерабочий день седмичного цикла. В условиях стабильной христианской культуры
эта метаморфоза абсолютно невозможна: за пять предшествующих веков должна была
сложиться прочная и незыблемая традиция, не допускающая посягательств, и тем
более столь кощунственных — заставить христианского бога воскресать
еженедельно. Непонимание крестьянами сущности христианской пасхи легко
увязывается со зрелищем большой массы крестьян, вдруг оказавшихся в городе,—
переехавших сюда или пригнанных для строительства («городового дела»): их
изумлял жесткий городской распорядок, где нерабочий день определялся не
особенностями ремесла и не капризами погоды, а просто расписанием. И если они
застали праздник пасхи, то каждая новая
нерабочая «неделя» была для них «как воскресение», а со временем и просто
«воскресение».
Но, спрашивается, зачем народ переходил
тогда с календаря, где основными праздничными вехами были, Ярила — Купала —
Коляда, на календарь с пасхой — троицей — рождеством? Очевидно, по причине
интереса к обрядности новых празднеств и к месту, где эти обряды совершаются,
то есть к церкви. Ведь русские крестьяне приняли в тот период христианский
годовой обрядовый круг — произошло присоединение их к церкви и
христианству.
Итак, в конце XV века зародился и с начала XVI века шел мощный процесс принятия
христианства основным и самым многочисленным сословием России —
земледельческим, что почти не отмечено историей, лишь отдельные косвенные
свидетельства тому попали на страницы документов, запечатлелись в памятниках
культуры.
Житие вологодского подвижника Иродиона
Илоезерского сообщает, что в период с 1538 по 1541 год окрестное население стало
погребать в его обители мертвых, крестить младенцев, совершать браки, а в теплой
трапезной «яди мяса и питии пиянственное приношаху и пияху ту». Вчерашний
язычник привычно полагал, что главной частью священнодействия должен быть пир.
В Стоглаве в 1551 году отмечен целый ряд случаев неправильного исполнения
христианских обрядов и изумления самим поведением паствы: «в церквах божиих...
стоят без страха и в тафьях, и шапках, и с посохи... и говор, и ропот, и всяко
прекословие, и беседы, и срамные словеса». Авторов Стоглава, смутила бурлящая
активность прихожан, но она становится понятной и естественной, если видеть за
ней традиции языческих празднеств, которым чужда поза скованности и
молчания.
Если с христианизацией посада среди русских
святых стали появляться посадские юродивые, естественно ожидать, что приобщение
к христианству крестьян должно вызвать подобное явление. И действительно:
крестьянское восхождение на христианский Олимп началось в самом конце
XV века и в основном происходило в первой
половине XVI века. Наиболее богато бытовыми деталями
житие Антония Сийского, умершего в 1556 году. Он выходец «от веси, глаголемыя
Кехта, от пределов Цвиньския области, иже близ Студенаго моря акияна». Его
житие — далеко не биография, но и оно достаточно показательно. Наиболее острым
моментом здесь является канонизация представителей крестьянства — это говорит о
том, что христианизация русских земледельцев достигла такого уровня, когда в их
среде возникла осознанная потребность в собственных ходатаях и заступниках
перед богом. Поэтому более всего русских святых появляется в XVI веке.
Итак, оснований вполне достаточно, чтобы
первую половину XVI века считать временем фактического принятия
христианства русскими крестьянами. И когда пришла эта пора, они обязаны были
усвоить и церковное венчание, но с новым обрядом, делающим понятной и неизбежной
столь резкую перемену в брачных традициях. Почему? Да потому, что его исполняли
святые люди. И вместо троекратного обхода вокруг священного куста и водного
плескания надо ехать с женихом и его свитой (в волостную или монастырскую
церковь), так как некогда уехала дева Феврония с князем Петром (в Муром, где они
венчались). Когда свадьба вошла в христианское русло, жених в глазах каждой
русской девушки стал подобен князю — свадебный обряд пополнился новым
чином.
Получается, что литературный показ свадебного
обряда в начале XVI века был делом вполне актуальным: он был
нужен христианизирующейся деревне. Острота ситуации, видимо, состояла в том, что
для крестьян оказался неприемлемым существовавший обряд, восходящий к женитьбе
князя Владимира. И вот для того, чтобы основная часть городского обряда
укоренилась в деревне, была создана новая легенда, предельно заземляющая образ
князя: он совершает не завоевательный, а глубоко смиренный поход и обретает
невесту — не греческую княжну, а русскую крестьянку.
Почему же князь Петр женился на Февронии? В
России XVI века он — носитель старого, многовекового
христианства. И женился потому, что именно в это время христианство и
христианский брак пришли в русскую деревню. Предание рассказывает о
малоизвестном, скорее всего нереальном, полулегендарном князе. Он князь чисто
номинально и нисколько не вызывает представления о верховной власти. Ведь
христианство пришло в деревню не «сверху», не усилиями московского
правительства и митрополичьей кафедры. Но тогда почему Феврония вышла замуж за
князя Петра и даже была инициатором брака? Да потому, что русская деревня в это
время принимала христианство, сосредоточенное до тех пор в городе.
|


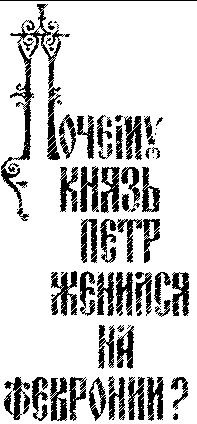 В. Власов.
В. Власов.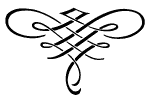
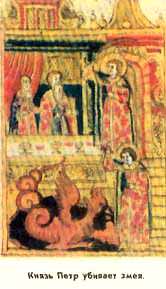 Младший брат князя Петр находит этот меч и
убивает змея. Но попала кровь змея на лицо и руки его, и весь он покрылся язвами
и струпьями. Прослышав, что рязанская земля славится лекарями, велит везти
себя туда. В селе Ласкове заходит слуга князя в один из домов и видит: сидит в
горнице девица за ткацким станком, а перед ней прыгает заяц. Узнав, зачем
пришел слуга, девица обещает вылечить князя, если тот возьмет ее в жены. Петр
вынужден был дать согласие. Феврония приготовляет снадобье и велит вымыть князя
в бане и смазать ему все язвы, кроме одной. Князь исцеляется от болезни, но не
выполняет своего обещания. И тогда снова покрывается язвами. Феврония опять
лечит его, и Петр женится на ней. Однако бояре и их жены не могут примириться с
тем, что дочь бедного «древолазца» стала княгиней. Они чинят ей всяческие козни
и, наконец, изгоняют Февронию вместе с мужем из муромских пределов. Но затем
между боярами возникают распри, и они вынуждены просить Петра и Февронию
вернуться домой, где те и доживают в полном согласии до старости. А когда князь
почувствовал приближение смерти, он посылает за Февронией. Та приходит, и они
вместе умирают.
Младший брат князя Петр находит этот меч и
убивает змея. Но попала кровь змея на лицо и руки его, и весь он покрылся язвами
и струпьями. Прослышав, что рязанская земля славится лекарями, велит везти
себя туда. В селе Ласкове заходит слуга князя в один из домов и видит: сидит в
горнице девица за ткацким станком, а перед ней прыгает заяц. Узнав, зачем
пришел слуга, девица обещает вылечить князя, если тот возьмет ее в жены. Петр
вынужден был дать согласие. Феврония приготовляет снадобье и велит вымыть князя
в бане и смазать ему все язвы, кроме одной. Князь исцеляется от болезни, но не
выполняет своего обещания. И тогда снова покрывается язвами. Феврония опять
лечит его, и Петр женится на ней. Однако бояре и их жены не могут примириться с
тем, что дочь бедного «древолазца» стала княгиней. Они чинят ей всяческие козни
и, наконец, изгоняют Февронию вместе с мужем из муромских пределов. Но затем
между боярами возникают распри, и они вынуждены просить Петра и Февронию
вернуться домой, где те и доживают в полном согласии до старости. А когда князь
почувствовал приближение смерти, он посылает за Февронией. Та приходит, и они
вместе умирают.
 Можно представить, как этот народный
тысяцкий, «хозяин» ремесленного посада, предводительствовал в свадебных
процессиях, и каждая церемония принимала характер демонстрации новгородских
свобод — «правды новгородской». Разумеется, настоящий тысяцкий не мог успеть
на все свадьбы, да к тому же с начала
Можно представить, как этот народный
тысяцкий, «хозяин» ремесленного посада, предводительствовал в свадебных
процессиях, и каждая церемония принимала характер демонстрации новгородских
свобод — «правды новгородской». Разумеется, настоящий тысяцкий не мог успеть
на все свадьбы, да к тому же с начала 